Статья №3. Постыдные и возвышенные наслаждения. Удовольствие в классической и современной эстетике

Эстетика как теория Прекрасного в философии возникает только в 1750 году усилиями немецкого философа Александра Баумгартена. Однако еще с Античности вопросы о красоте и природе искусства интересуют как мыслителей, так и самих творцов. При этом, казалось бы, совершенно очевидная предпосылка о том, что красивое – в каком-то отношении приятно, почти всегда принималась со множеством оговорок или даже с недоверием.
Причина тому проста: уже на примере гедонистов и киников мыслители прошлого отлично понимали, что со ставкой на удовольствие почти всегда рука об руку идет протест или цинический отказ от культуры. И в этом есть определенное противоречие, т. к. обычно искусство – артефакт развитой культуры.
Но это не единственная причина попыток «окультурить» удовольствие в теории, а затем и на практике. Искусство Западного мира часто и довольно сильно менялось, а чувство удовольствия в той или иной степени сопутствовало и почтенной классике, и новомодным стилям. Столь же устойчивыми во все времена были попытки властной элиты и интеллигенции обосновать свое отличие от остальных через ссылку на разумные, возвышенные и утонченные удовольствия, переживаемые от искусства. Давайте же посмотрим на историю темы «удовольствие» в классической и современной эстетике.
Классическая эстетика: разумное удовольствие
Классическая эстетика в узком смысле возникла в галантном веке, по своей сути это целая плеяда ярких текстов, написанных с середины XVIII по середину XIX. В широком же смысле «классика» – это все теории об искусстве, начиная с Античности и заканчивая эпохой романизма. Именно в последнем смысле мы и берем это понятие.

Для Античности эстетика – детище космологии. Мир прекрасен и подобен произведению искусства (само слово «космос» связано с порядком и ясностью), поэтому ранние мыслители прежде всего интересуются тем, как он возник и что из себя представляет. А потому вопрос об удовольствии затушеван рассуждениями об объективной стороне прекрасного – о форме, пропорции, гармонии. Даже психология красоты в то время – лишь дополнение к космологии: душа познает прекрасное в вещах, т. к. это созвучно её устройству. Иными словами, душа – это тоже прекрасная вещь, хотя бы в потенциале.
Древние греки ценили и практически не осуждали сладострастие, и все-таки идеи об удовольствии на уровень теории проникали с большим трудом. Те же софисты гораздо чаще апеллируют к тому, что люди по-разному познают, а не наслаждаются (что совершенно очевидно для современных людей, но отнюдь не так для античных).
Ярче всего это видно в «Законах» Платона: полезное и благое сопровождаются удовольствием, но если переживается только удовольствие без всякого довеска – то это дурно. А почему, собственно, «дурно»? – Платону виднее. Уже в «Государстве» он излагает идею, согласно которой вслед за изменениями мусического искусства (а речь идет именно об удовольствии от музыки и пения, освобожденным от примата слова) следует нарушение законов, упадок нравов и разрушение общества.
Отсюда и берет исток идея о разумных и неразумных удовольствиях, которая несмотря на свою вопиющую неочевидность почти не встретит критики (за исключением маргиналов вроде крайних гедонистов). Античный философский ум уверен, что бесконтрольное удовольствие ведет к страсти, душевному разладу и, как итог, истощает разум. Так впервые возникает пока еще некрепкий союз удовольствия и искусства: в искусстве душа направляется к благу, и удовольствие оказывается ценным, правда, на правах только инструмента.
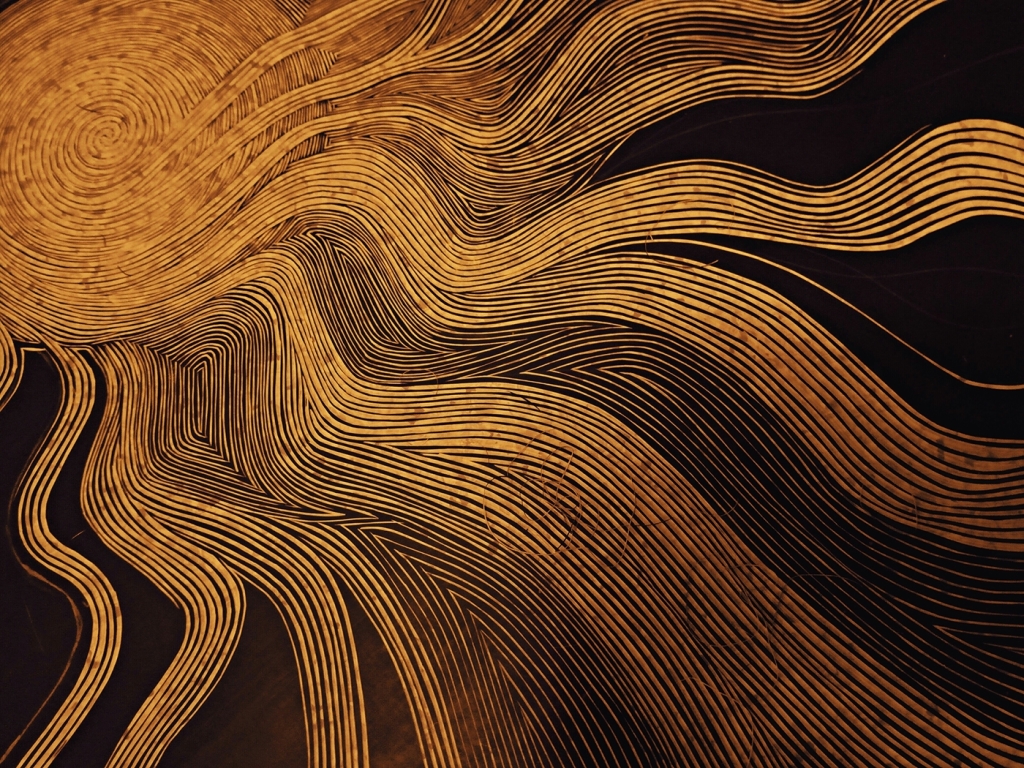
Именно так будут описывать античные мыслители в сфере эстетики трагедию, сатиру, музыку. Например, Аристотель предположит, что удовольствие вызывает форма искусства, чтобы спровоцировать тягу к благу. Искусство, в отличие от удовольствия, – сугубо человеческая штука, поэтому без участия разума удовольствие возвращает нас в скотское состояние. От том, может ли озвереть человек без удовольствий, Стагирит, насколько мне известно, не упомянул.
Средние века вопреки унылым и упрощающим обобщениями многое знали о чувственном удовольствии – как в жизни, так и в искусстве. Важно точно определить грань: чувственное удовольствие находится под подозрением (оно может быть искушением лукавого), но не под запретом. Точно так же средневековые горожане наслаждаются купальнями и термами и в то же время слушают проповедников, предостерегающих от телесного греха.
Августин и другие авторы нередко оправдывают красоту, ведь она часть замысла божьего. Важно правильно относиться к красоте и удовольствию от неё: они не самоценны, но, напротив, выступают символами для души (пребывающей в поисках Бога). Удовольствие – конечно, не только символ для души, но и стимул для тела, который иногда ведет к пороку и греху. Также по ходу заметим, что угадывание и распознавание символов в мире и искусстве – это тоже особый, возвышенный род удовольствия для средневековых людей (как минимум образованных).
Вообще, стоит заметить, что христианская догма, по сути, приравнивает Бога к поэту/художнику, который получает удовольствие от акта творения («И увидел Бог свет, что он хорош…»). В то же время всякое авторство оказывается в таком случае всего лишь отблеском Его творчества, именно поэтому средневековые авторы не ставят свои имена и воспринимают вдохновение почти буквально – как воздействие извне.

При этом со времен Платона вопрос о регламентации удовольствия (особенно в музыке) только обостряется. Августин очень точно схватывает суть проблемы: если пение в церкви так красиво и приятно, то можно совсем позабыть о Слове Божьем, которое эти голоса должны нести.
Учитывая развитие музыки при посредстве Церкви, каждое нововведение попадает под подозрение о «грехе посредством уха», именно из-за того, что григорианский хорал или полифония могли оказаться скорее радостью плоти, чем духа. Папа Иоанн XXII даже издал декрет «Docta sanctorum Patrum», призванный навести порядок в церковной музыке. Но и после того к этим вопросам возвращались регулярно.
Важное отличие от античной эстетики состоит в том, что удовольствие рассматривается намного шире, чем в связи с умозрительной формой. Средневековые авторы ценят сами материалы и важное место в переживании красоты отдают фантазии (а не уму). Хёйзинга по этому поводу очень точно заметит, что в ту пору человек при созерцании искусства давал волю своей фантазии, не останавливаясь на единстве целого.
И кстати, единственный ремесленник, ставший святым в католичестве, был ювелиром и чеканщиком (Святой Элигий). Кроме того, удовольствие от красивых предметов, материалов, звуков и т. п. больше не относится только к самым вещам, но еще и к устройству органов чувств. Поэтому всякое удовольствие тесно связано с божьим замыслом (давшим нам органы чувств), а всякая эстетическая радость легко трансформируется в радость бытия или даже в мистическое переживание. В конце концов, недаром уныние – один из смертных грехов.

В целом обе эти огромные эпохи признают удовольствие как сопутствующий фактор в ощущении красоты, но неизбежно вводят сюда ценностный норматив – разум/добродетель важнее. Следовательно, мыслителям остается только упражняться в поиске удачного определения этого второстепенного участия – инструмент, символ, часть замысла.
Классическая эстетика: возвышенное удовольствие
Эпоха Возрождения в целом является углублением тенденций Средних веков, но какие-то элементы удобно подать и как специфические. Мыслители того времени создали ощутимую интеллектуальную линию защиты для искусства и для художника, что в итоге позволило «реабилитировать чувственность». Искусство приравнивалось к отображению природы, которая в свою очередь понималась как зеркало Творца, художник таким образом превращался в едва ли не эталон человека – существо, созданное творящим и поэтому (в каком-то смысле) продолжающее задачу творения вслед за Богом.
В итоге довольно популярной стала идея о том, что искусство – это своего рода усиленная природа, а удовольствие – удостоверитель того, как слабое впечатление становится сильным. То есть природа дает стимул художнику, он же его усиливает, что заметно в реакции на произведение искусства.
Собственно, если быть точным, то именно в Возрождение эстетическая теория отважится на прямое связывание прекрасного и удовольствия (что породит длительную дискуссию на тему чье это удовольствие – автора, критика, зрителя?). Если быть точным, эта идея будет ощутима в ренессансном эпикуреизме, однако словесную форму обретет только к концу эпохи – в XVI веке.
Так, например, Кастельветро определит целью поэзии (да и искусства вообще) – наслаждение и новизну. Это высказывание, пожалуй, наиболее смелое для всей эпохи, т. к. в нем наконец удовольствие, а не добродетель выходит на первый план. Большинство его современников высказывались более осторожно, как например, Торквато Тассо, считавший, что искусство влечет к истине через удовольствие – как сахарный сироп помогает выпить горькое лекарство.

Похожим образом выскажется и Филип Сидни, видевший в поэзии «наслаждение, рождающее добродетель». Современному мыслителю, однако, так и хочется продолжить эти метафоры, дабы задать неудобные вопросы – например, что если искусство превращается в «наслаждение-чайлдфри»? Или при наличии сладкого сиропа нечем или не от чего лечиться?
Вообще эстетическая теория Ренессанса разными путями шла к оправданию удовольствия. Многие мастера (Альберти, Микеланджело) определяли прекрасное как то, что трудно сделать, и именно поэтому, когда мы это получаем без усилий, в готовом виде, произведение искусства доставляет удовольствие.
Стоит заметить, что труд художника понимался не только как мастерство (работа с материалом), но и как умственная работа (познание законов космоса и морали, знание истории, географии и анатомии и т. д.). А Дюрер усматривал в наслаждении «определенного рода пропорцию между предметом и чувством», поэтому хорошее произведение искусства не должно быть легким для познания, но в то же время и не переутомлять чувство.
Классицизм вновь отбросит вопрос об удовольствии как части или критерии прекрасного, подчинив всё посредством канона разуму с моральными задачами. Разве что Ле Боссю будет защищать необходимость драматургу в совершенстве знать и достигать нужные эмоциональные состояния, где удовольствие важная часть многих аффектов (например, восхищения).
Крупнейшие теоретики и авторы трактатов по изящным искусствам – Буало и Баттё – в той или иной степени ссылались на разум (ясность идеи, правила) и на природу (поиск идеала и истины), но избегали вопроса об удовольствии (правда, подразумевая, что «хороший вкус» приносит что-то вроде удовлетворения).
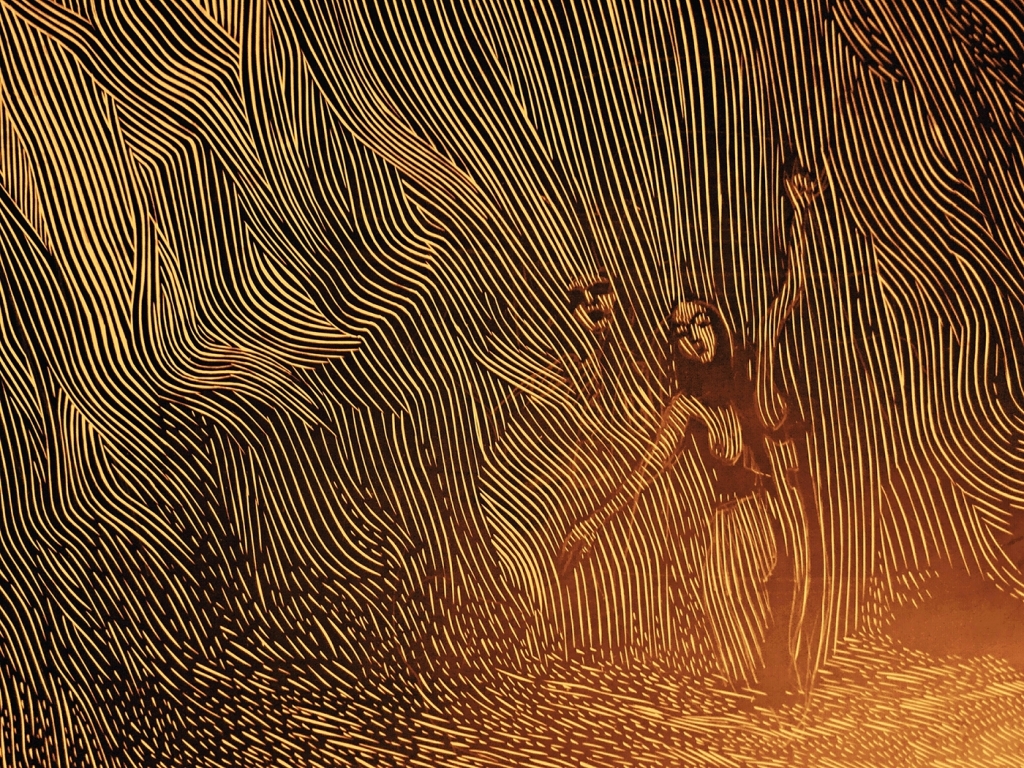
Даже сенсуализм английских философов не позволил им в полной мере выразить значение удовольствия. Несмотря на общую посылку от Локка о том, что человек по природе склонен к поиску удовольствия, в эстетике на его месте была создана концепция эстетического вкуса, в которой моральное звучание почти всегда оказывалось важнее индивидуальных радостей.
Аддисон попытался рассуждать о радостях воображения, но забрел в дебри «высоких чувств». И в учении Хатчесона и Шефтсбери не меньше платонизма, чем влияния программы Локка. О последнем, кстати, было замечено, что, хотя это и странно себе представить, но великий мыслитель был совершенно безразличен к искусству и в эстетическом развитии недалеко ушел от троглодита.
Куда как более интересный взгляд на вещи предложило барокко: здесь удовольствие оказывается довольно сильным и важным аффектом, который, однако, провоцирует кажимость – игра, иллюзия, подражание. Барокко вновь делает шаг в сторону воображения и индивидуальности, например, признавая вслед за Паскалем, что в искусстве нет правил, как в математике и медицине, поэтому никто не знает от чего происходит удовольствие от музыки или поэзии.
По сути, искусство становится и продуктом воображения, и способом его развивать, что оказывается принципиально важным моментом для существования вкуса, а, следовательно, умения получать возвышенное удовольствие, не связанное напрямую с удовлетворением физиологической потребности.
Барочные теоретики (вроде Тезауро, Грасиана, Гонгора и др.) вдохновляются идеей сублимации – возвышения человеческой страсти до культурного состояния. Признавая в человеке его природу (стремление к удовольствию), они стремятся оформить её в соответствии с представлениями эпохи. Так на сцену выходит джентльмен – человек хорошего вкуса и манер, знающий толк в увеличении удовольствия через опосредование и ритуал (флирт, салонный и столовый этикет, дуэли и карточные игры, остроумие, следование моде, променады и маскарады и т. д.).

В XIX веке проблематика возвышенного удовольствия снова уйдет в эстетике на второй план. Ведущие мыслители будут спорить об онтологии и метафизике искусства, а также о самом устройстве познающего и созерцающего субъекта, способного к оценке красоты.
Тема удовольствия вновь вернется в обиход вместе с попытками экспериментального исследования чувства прекрасного, а затем и с концепциями Фрейда и его учеников. Если первые будут искать в восприятии сильные и слабые импульсы (например, концепция «психологической запруды» Липпса), то психоанализ пойдет дальше и поставит вопрос о том, почему вообще искусство (субъективная продукция) имеет столь высокий социальный статус (концепция сублимации). Вероятно, оба аспекта важны для полного понимания того, почему все-таки нам приятны закаты, античные побитые статуи и некоторые примеры современной живописи.
Современная эстетика: наслаждение авангарда
В ХХ веке после Фрейда и «эстетики снизу» (Тэн, Фехнер, Липпс и др.) никто из серьезных теоретиков искусства не отрицал значимость удовольствия как в его создании, так и созерцании. Однако формальные поиски и эксперименты породили совершенно новый вопрос: какое это удовольствие?
В самом деле, не лежит ли в самой сердцевине глобальных споров о модерне, авангарде, китче и постмодернизме разный подход к получению удовольствия от произведения искусства? В таком ракурсе прозванные «извращениями» Джойс и Пруст, театр абсурда и новый роман, кубизм и Дада и многие другие в некотором смысле действительно имеют отношение к перверсии и нетипичным формам удовольствия.
Своеобразную черту под этой темой подвел Ролан Барт, предложивший довольно остроумное разделение на «текст-удовольствие» (texte-plaisir) и «текст-наслаждение» (texte-jouissance). По сути, это не столько характеристика текстов, сколько описание двух стратегий чтений, а потому эта логика обычно легко переносится и на другие виды искусства. Впрочем, и само письмо автора в силу его внутренних интенций изрядно влияет на выбор стратегии (Барт назовет это сопротивлением текста читаемости или нечитаемости). Причем, как признает сам автор идеи, четкой границы не существует и всегда останется место для неопределенности.

Текст-удовольствие зачастую отождествляется с классической литературой, впрочем, сюда же стоит отнести популярное чтиво (многие детективы, романы о любви, приключенческие романы) и фан-фикшн. Это тексты, движущиеся привычным путем – от интриги через кульминации к развязке, в них самое главное – рассказать историю без лишних запинок на стиль и язык автора. То есть текст-удовольствие – это текст для комфортного погружения в реальность повествования. В качестве примера Барт упоминает Жюля Верна, но это, например, и Толстой или Хемингуэй, если читать их только ради сюжета.
Соответственно, текст-наслаждение наиболее характерен авангардной и модернистской прозе, тяготеющей к особому стилю, ритму или формату повествования. Текст-наслаждение побуждает и требует смаковать каждое слово, искать разрывы, намеки, странности, но и сам читатель должен быть особенным, подготовленным. Как замечает Барт, это не тот, кто глотает книги, это тот, кто трепетно их вкушает и поэтому раз за разом возвращается к данным текстам. Собственно, о подобном аристократизме читателя рассуждали многие авторы модернистской прозы, хотя в этом не меньше от фетишизма. И удовольствие/наслаждение имеют к этому самое прямое отношение. Вот что пишет Барт:
«Текст-удовольствие – это текст, приносящий удовлетворение, заполняющий нас без остатка, вызывающий эйфорию; он идет от культуры, не порывает с нею и связан с практикой комфортабельного чтения. Текст-наслаждение – это текст, вызывающий чувство потерянности, дискомфорта (порой доходящее до тоскливости); он расшатывает исторические, культурные, психологические устои читателя, его привычные вкусы, ценности, воспоминания, вызывает кризис в его отношениях с языком».
Постструктуралистское решение Барта, по сути, лишь закрепило и довольно удачно выразило идею, витавшую в воздухе весь ХХ век. Читатель любого текста может быть как потребителем, ведомым субъектом, успешно реагирующим на все условности и уловки автора (за что и будет награжден удовольствием), но также он может быть производителем, соавтором или даже оппонентом текста. Во втором случае это может быть, как выбор читателя, так и невозможность подстроиться/понять автора, и в таком случае приходится самому озаботиться своим наслаждением – через своеобразный культурный гедонизм. Барт здесь фиксирует не просто «смерть автора», но и «двойную расколотость, дважды извращенность субъекта (читателя)».
Современная эстетика: постыдное удовольствие от массовой культуры
Разделив две стратегии чтения, мы вместе с тем получили новый вариант различия между высокой (элитарно-интеллектуальной) и низкой (массовой) культурой. Кто, в конце концов, будет читать все эти тексты-наслаждение, кроме гуманитариев, разбирающихся в современных теориях текста?

Что удивительно: несложно заметить, что вопреки декларациям о демократизме именно левые интеллектуалы особенно часто выступали против массовой культуры в ХХ веке, клеймя её не только как капиталистическую, но и как пошлую, примитивную, неинтересную и вредную. Особенно хорошо это заметно в работах франкфуртской школы – у Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера, Герберта Маркузе. Адорно, кстати, был большим поклонником атональной музыки (Антон Веберн, Арнольд Шёнберг), и это оставило огромный след на его эстетической теории.
В своем многостраничном опусе Адорно занимает весьма оригинальную позицию: с одной стороны, критикует «бюргерский» взгляд, согласно которому «искусство должно быть пышным, а жизнь аскетичной», но с другой стороны – пытается диалектически примирить наслаждение о искусства и счастье познания. Однако всё равно к концу ХХ века претензия к массовому стала настолько общим местом, что попытки обратить внимание интеллектуалов на серьезное изучение произведений масскульта обернулись самым настоящим скандалом.
Одним из первых был Эндрю Росс, который в книге «Никакого уважения! Интеллектуалы и популярная культура» убеждал коллег в том, что эту часть современности тоже стоит изучать. И, в отличие от Сюзен Зонтаг, он не стремился найти в кэмпе, порнографии или журнальной фотографии какие-то интеллектуальные глубины, скорее напротив – пытался проложить мостик между основной частью населения и университетскими исследованиями культуры.
И поныне, несмотря на примеры Жижека, Джеймисона, Бодрийяра и серии коллективных сборников (Философия и Симпсоны/доктор Хаус/трилогия Толкина/Гарри Поттер/Саус Парк/etc.), обращение к массовой культуре всегда оказывается под двойным подозрением: слишком просто для одних, слишком заумно для других. По меткому замечанию философа Александра Павлова, всякий интеллектуал, признающийся в своих любви и интересе к популярному мейнстриму похож на того, кто сознается в постыдном удовольствии.

Удивительно, но к концу ХХ века мы находимся едва ли не в той же точке, что и в пору Античности: разве что теперь многие интеллектуалы все-таки согласны с тем, что и обычные удовольствия (от того, что другие клеймят) достойны оправдания и признания. В этом смысле то, что по недоразумению обозначили как постмодерн – на деле целое множество самых разных эстетических стратегий, одни из которых пытаются сохранить элитарность, другие, напротив, – смешать все искусственные границы, вроде жанров, канонов и социальных ориентаций в творчестве.
Даже так называемая «постмодернистская ирония» в ряде случаев звучит совсем как «хороший вкус» из эпохи Нового времени. Меж тем сегодня вместе со сращением любого элемента культуры с маркетингом становится почти безусловной максима «потребитель всегда прав», а значит, и критерий удовольствия решает многое.
Именно в связи с этим настойчивые попытки интеллектуалов быть выше других изрядно утомили, более того, их регулярность теперь выглядит не как какая-то форма удовольствия (хотя бы нарциссическая), а напротив, как гиперкомпенсация на месте его недостатка. Но там, где творчество не питается удовольствием и радостью, вскоре не будет никакого творчества, да и понимания тоже. Недаром в своей книге Павлов уже во введении пересказывает эпизод из фильма «Снова в школу», где богач заказывает у Курта Воннегута эссе по его творчеству, а университетский преподаватель говорит, что автор эссе ничего не понимает в творчестве писателя.
Поэтому обращение к популярным фильмам, сериалам, видеоиграм, музыке и т. п. – это не только вопрос ликвидации «отрыва от народа», но порой и вопрос поиска того, что поддерживает удовольствие от существования в качестве субъекта культуры. И в отношении современной культуры в целом (т. е. и коммерческий мейнстрим, и загнавшая себя в гетто высокая культура) можно согласиться именно с Жижеком: задача интеллектуалов работать с «прочтениями» культуры – т. е. понимать, как то или иное произведение превращается в послание, которое в свою очередь будет влиять на то, что мы назовем «культурой» завтра.
В оформлении использованы работы Ekaterina Prokopyeva. На превью – фрагмент картины Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (1907).