«Теории»: Лакановский объект/феномен.
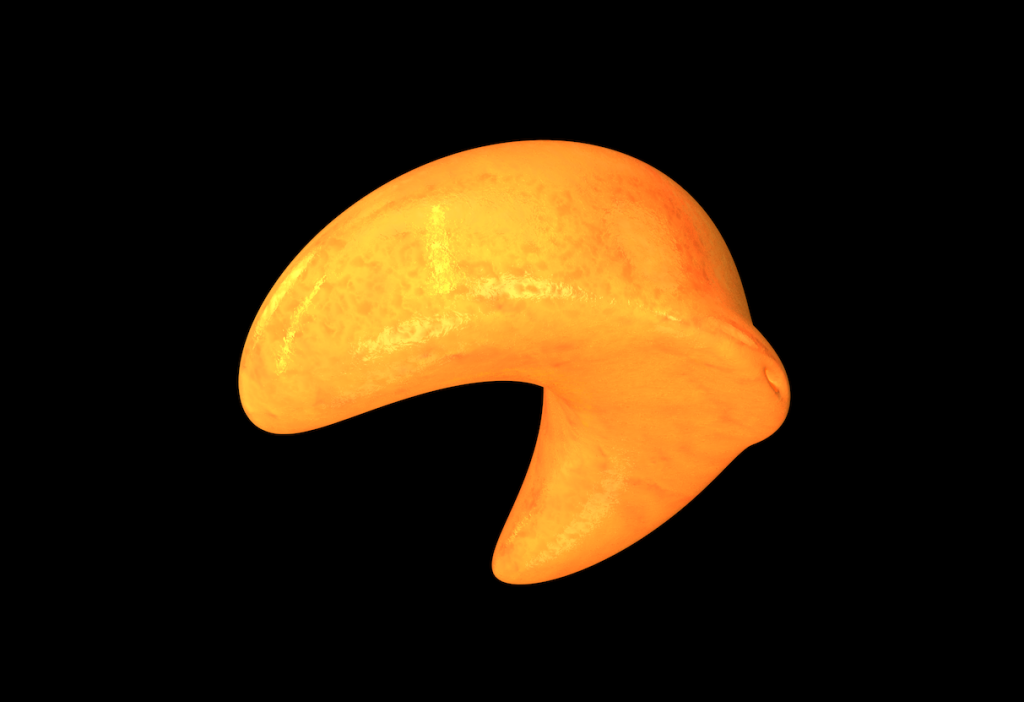
Итак, в 1974 году Лакан прочёл доклад с титром «Лакановский феномен», при этом сам Лакан называет такое название «слабостью», уступкой. И, конечно, читая свой доклад, он знает, что есть как минимум два понимания слова «феномен». Первое, классическое, равноценное понятию явление и противопоставленное сущности (ноумену), он упоминает в своей манере в тексте. Он буквально даёт определение: «феномен – это то, каким образом вещи, как мы выражаемся, нам представляются. Они предстают перед нами лишь благодаря слабости наших органов чувств, и мы и не подозреваем, какой может быть их реальность. Это непритязательная точка зрения, но мы должны принять ее во внимание». Сделанный, походя, пинок в адрес этой позиции позволяет предположить, что влияние Гегеля (через Кожева) в Лакане не столь уже и мало, вопреки даже тому, что по этому поводу думает он сам (в последнее десятилетие от попыток объяснить лаканиану лекциями Кожева маятник качнулся в сторону слишком вымученного отрицания этой связи).
Второе понимание «феномена» связано с переосмыслением понятия в феноменологии, а главным образом у Мартина Хайдеггера, с которым Лакан был знаком через Жана Бофре. Несмотря на ощутимые различия, я несколько объединю понимание Гуссерля и Хайдеггера и определю феномен как Вещь. Вещь, которую нужно уважать в реальности её проявлений, вещь, которая позволяет проявиться сущему открытым способом («феномен есть то, что кажет себя, то, что выводит на свет и приводит к ясности»). Такой феномен не скрывает сущности, не прячется за качествами или несовершенствами человеческого сознания-восприятия, он сам предлагает нам средства (главным образом через язык) увидеть и услышать его, расшифровать его в со-бытии со мной.
Отголоски обеих традиций можно найти в мысли Лакана: например, феномены вне-смысла, указывающие на Реальное отсылают к связке феномен-ноумен, а идея само-кажимости феномена схожа с установкой аналитика на слушание речи, а не только смысла. Но есть ли в учении Лакана нечто, что имплицитно прочитывается как его собственный, оригинальный феномен или феноменология? Мне кажется, что такой момент в его работах есть. Лакановский феномен – это «объект а», а если быть точным три теоретико-клинических объекта, введённых им: взгляд, голос и ничто (оральный и анальный объекты всё-таки остаются за Фрейдом, пусть и в нюансах, но они продолжают отличаться от трёх объектов Лакана).
При этом словами объяснить человеку, не сталкивавшемуся с психоанализом, что такое объект а очень сложно. Тут либо нужны подробности не самой лёгкой теории, либо красноречие и даже пантомимический талант при рассказе на примерах. Я попробую понемногу опереться на то и другое, чтобы вкратце очертить феноменологию этого «объекта» (и его отличия от прежних традиций).
Первое, что сразу же приходит на ум – это то, что лакановский феномен (я так буду называть обобщённо три упомянутых выше объекта) не обнаруживается ни через осознанное восприятие, ни через язык, полный истории и смыслов. Взгляд или голос возникают передо мной как некая «мысль» или даже представление о вещи (во фрейдовском смысле этого слова), но эта мысль не из тех, которую можно произвольно подумать, поэтому она обычно ощущается как чувство, «проблеск чего-то». Я воспринимаю мир, но тут объекта а нет, воспринятое я как-то размещаю в означающих, они – важное условие, но недостаточное, и только затем в бессознательном я чувствую укол – мысль о том, что я нахожусь перед взглядом, что голос звучит глубоко мне. Ещё сложнее обстоит дело с объектом ничто, так как его (как мне представляется) обнаруживает не мысль, но мысль о мысли: смутная догадка, что в каком-то представлении, проскользнувшем в голове, есть след ничто, его эффект.
Хороший пример, отчётливо знакомый быть может многим – это ощущение, что ты находишься под пристальным и оценивающим взглядом. Встреча с таким взглядом не имеет ничего общего с реальными условиями, в которых кто-то смотрит на тебя с тем или иным намерением. Взгляд, особенно в сильной тревоге, может обнаружить себя не только в нацеленном глазе, но и в объектах, его напоминающих или допускающих – в стеклах тёмных очков, в окнах, на огромных пустых пространствах, даже в картинах и фотографиях. Собственно сам взгляд и производит тревогу, т.к. быть видимым легко связывается с быть объектом неясного желания Другого. В этом смысле феноменология лакановского объекта всегда указывает не на то, что можно знать или не знать, а на предположение знания, на бессознательный фантазм как незнающее себя знание. Или ещё проще: это феномен, которому чужда гносеологическая рамка «истина/ложь», он всегда на стороне некоей истины субъекта.
Отсюда вторая особенность: лакановский феномен всегда про меня. Он не просто возникает «не без субъекта», но он буквально ощущается как созданный мной, привнесённый в мир моим бытием. Тут нет независимости хайдеггеровской Вещи, но это и не производство феномена моими чувствами и сознанием. Это совсем другое ощущение: своего рода интуиция о том, что только благодаря мне в мир пришёл «тот самый взгляд», «этот голос». И эта интуиция довольно точна, ведь объект а возникает вместе с субъектом, в момент его сепарации от Другого.
Это ощущение, что ты в ответе за реальность объекта а – и есть важная часть его феноменологии. Феноменологии, которая не стремится к точности данных или ясности смысла, а напротив создаёт сложное притяжение этики и наслаждения. Ведь с одной стороны, объект побуждает признать свою ответственность за его реальность – и это сторона особой психоаналитической этики, способной принять даже то, что изначально кажется бессознательным или чужим. С другой стороны, сама реальность лакановского феномена подкрепляется главным образом эффектами удовольствия, тревоги, затронутости. И это не затронутость через личность и её вкусы, предпочтения, а скорее через голову, поперёк банальных знаний о том, что тебе нравится/не нравится.
У меня этот момент стойко ассоциируется с голосом. Например, в песнях Дасти Спрингфилд, Бет Гиббонс (Portishead) или например у Таниты Тикарам (в Twist in My Sobriety) есть фрагменты, где женский голос звучит для меня буквально как триггер. Эдакий личный ASMR, в котором я слышу не речь (слова песни) и не пение (фонетическую артикуляцию), а буквально нечто большее – как если бы это была не запись, но просьба, обращённая ко мне или боль, которой я сочувствую. И это ещё не всё, вместе с этим я ощущаю почти род синестезии: словно вижу, слышу и чувствую как движутся губы и язык во рту, производящие эти звуки. Я знаю как выглядят эти женщины и это как говорят "совсем не мой тип", однако в сам момент столкновения с голосом это не то, что бы не важно, а скорее я встречаюсь с чем-то или кем-то, кого всегда ищу. И поэтому после укола от встречи с объектом всегда приходит сложное чувство удовольствия с нотами стыда, тревоги и некоторой лёгкой растерянности.
Наконец третий момент специфической феноменологии лакановского объекта состоит в том, что о ней почти невозможно говорить без парадоксов. У него вообще очень двусмысленное отношение с проблемой существования: взгляд, голос и ничто не создают какой-то консистентной онтологии, увязанной со смысловым содержанием или словом. Такой феномен существует, но как нечто невозможное, как контрдовод к цельной онтологии. Он не внутри и не вовне, но в области экстимности (нечто вне меня, но составляющая элемент моей сущности, наиболее близкое мне). Встреча с ним заставляет задействовать вокабуляр эстетики возвышенного, ведь в нём удовольствием возникает на фоне неудовольствия и наоборот.
Ну или, говоря простым языком, переживание лакановского феномена не ладит с образом человека как разумного и непротиворечивого существа. О взгляде в психоаналитическом смысле, а не картинке говорят, когда «пугает и коробит, но хочется ещё», когда «невыносимо, но ещё более невыносимо, если этого не будет», наконец, когда «я знаю, что другой не смотрит, но я точно знаю, что нахожусь во власти взгляда и чувствую эффекты как если бы был тем другим, что реально смотрит за мной (причем, всегда с очень конкретным отношением/намерением)». В такой встрече со взглядом всегда есть что-то от головокружения от бесконечных отражений, от тревоги и нехватки самого себя. Представьте, что вы подглядываете в замочную скважину, но вдруг видите себя подглядывающего как бы сверху. Если в этот момент вы попытаетесь ответить себе «где же я (как субъект) на самом деле сейчас нахожусь?», возможно вы ухватите вот эту завораживающую как падение нехватку.
Ещё сложнее обстоит дело с описанием голоса, ведь здесь даже визуальные и пространственно-временные метафоры очень ограничены. Голос в психоанализе схватывается в каком-то странном союзе теории и поэтики: как если бы во всяком экзистенциально важном проявлении человеческого голоса – от первого крика и первого зова младенца до шёпотов и криков, мольбы и божбы, всхлипов и хрипов взрослого – после всех попыток объяснения и редукции всегда оставался неделимый и инертный ускользающий остаток. Остаток, с которым встречаются в самые разные моменты: от неясного удивления от чьего-то случайного тембра голоса до того состояния проваливания куда-то, которое приходит если слушать музыку (особенно оперу) с закрытыми глазами. И здесь та же двусмысленность: голос может как отбрасывать субъекта (это не мой голос), так и вводить его в игру.
Объект ничто в таком случае – это самый сложный случай, его феноменология буквально вращается вокруг разных типов утраты и пустоты, которые одновременно и «есть, действительны» и «ne existais pas». Яркие примеры мы видим в меланхолии, в скорби утраты, в анорексии, но существуют многочисленные индивидуальные констелляции с объектом ничто. Например, в анорексии забота о пустоте внутри (не-сытости) заставляет думать о своеобразном мерцании или даже вспышке, зазоре для субъекта: он словно нуждается в свободном пространстве, в пустоте, чтобы возникнуть там, но фактически ценой собственной же отмены (ведь сильный голод, захватывающий все мысли, или обморок тут же его обнуляют).
И мне кажется, что, более детально разбирая эту специфическую феноменологию, можно не только лучше понять причины акцента на структуру в лакановском психоанализе. Более простая, но важная ставка заключается в том, что бессознательное, как ключевое понятие психоанализа, регулярно стремятся описать как феномен или набор феноменов, в т.ч. чтобы вписать его в психологию, философию или другой ряд привычных представлений. Однако практически всегда это происходит с путаницей мерила ( коим является вопрос «что есть феномен?») и потерей важных теоретических завоеваний Фрейда и Лакана.
В этом смысле я бы подчеркнул необходимость дистанцирования от столь привычного хода мысли. Бессознательное – не феномен, в смысле классической традиции. Скорее суть бессознательного в том, что я не знаю (до конца) какими именно мне представляются вещи, т.е. это странный фильтр между субъектом и феноменом. В феноменологической традиции бессознательное тем более не феномен, т.к. не является Вещью, рассказывающей и показывающей себя, скорее уж Вещью, что водит за нос и говорит «меня нет, тебе показалось». Мне кажется вернее сказать, что бессознательное – это та концептуальная оптика, что открывает широкое поле, которое не исчерпывается феноменологическим взглядом (поэтому и сделана ставка на язык структур), но всё-таки имеет свои неповторимые, очень странные проявления (те самые лакановские и фрейдовские феномены – то, как мы встречаемся с объектом а). И поэтому психоаналитик ориентирован прежде всего речью, особым слушанием, но кое-что от наблюдательности феноменолога ему тоже не чуждо.